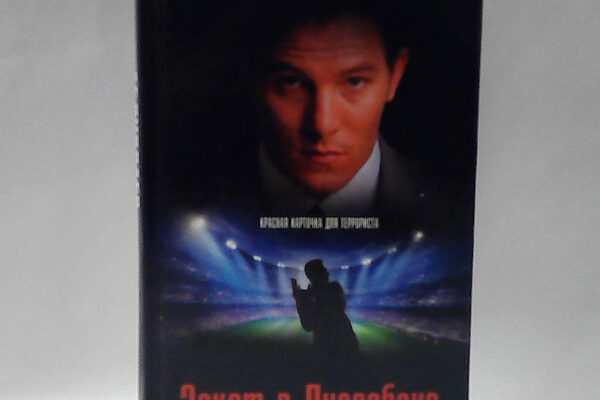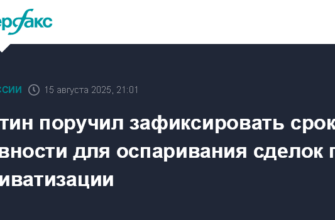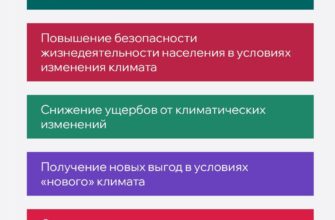Писатель и священнослужитель из Ташкента стал лауреатом премии «Ясная Поляна»

- О самоидентификации и культурных связях
- О поддержке русскоязычных писателей за рубежом
- О литературном дебюте и «Ташкентском романе»
- О журнальных публикациях и изменениях в читательской культуре
- О диаконском служении и православном журнале
- Влияние языковой среды на творчество
- О замысле романа «Катехон»
- О сложности книги и отношении к премиям
- О литературных предшественниках и будущем литературы
О самоидентификации и культурных связях
— Евгений Викторович, учитывая ваш загадочный для русского слуха псевдоним, как вы определяете своё место между культурами Узбекистана и узбекского народа? Кем вы себя считаете: «русским писателем Узбекистана», «русскоязычным писателем Узбекистана» или «узбекским русскоязычным писателем»?
— Я просто писатель. А как меня называть — это уже кому как удобнее. «Русский писатель, живущий в Узбекистане»? Да, это верно. «Узбекский писатель, пишущий по-русски»? И это тоже подходит. Конечно, для меня лично важно, где я живу и на каком языке думаю и творю. Ощущение себя частью как узбекской, так и русской культуры крайне значимо. Но для писателя, на мой взгляд, эти определения менее существенны. Писатель всегда находится где-то на пересечении — между странами, культурами, языками. Он всегда немного вне того языка, на котором пишет. Именно это даёт ему возможность взглянуть на свой родной язык со стороны, преобразовывать и трансформировать его. То же самое касается и его страны — взгляд немного извне, как будто глазами чужака. Это не отменяет любви, глубоких и сильных чувств — к стране и языку. Но такая любовь всегда сложна, многомерна, внутренне противоречива. Как сказано: «Дар поэта — ласкать и карябать». Это применимо ко всему.
О поддержке русскоязычных писателей за рубежом
— Премий для русских писателей из ближнего зарубежья не так много. «Русская премия» приостановилась на несколько лет. «Ясная Поляна» пытается преодолеть эти границы. Считаете ли вы нужными такие формы поддержки «своих» (в литературном, а не в политическом смысле)?
— «Русская премия», к сожалению, вновь «заснула». Ассоциация союзов писателей и издателей России, которая поддерживала её возрождение в прошлом году, прекратила свою деятельность. Новых меценатов пока не видно… Хотя, я думаю, «Русская премия» сегодня нужна даже больше, чем в середине нулевых, когда она только появилась.
На самом деле, все значимые российские литературные премии формально открыты и для русских писателей, живущих за пределами России. (За исключением, возможно, премии «Неистовый Виссарион», которая строго предназначена только для литературных критиков, проживающих в РФ.) И в «Ясной Поляне», и в «Большой книге» были финалисты и лауреаты среди русских «зарубежников». И это хорошо. Но в этих премиях это, скорее, единичные случаи.
Реальность такова, что около 11 миллионов уроженцев России проживают за её пределами. Согласитесь, это серьёзная цифра. Это третий по величине показатель в мире после Индии и Мексики. И это только те, кто родился в России; сюда не входят русскоязычные, которых вообще невозможно подсчитать, «яко песок морский». Конечно, желательна целевая поддержка литературного процесса за пределами России. Особенно сегодня, когда происходит сильная поляризация по политическим взглядам. Когда отношение к русскому языку и русской литературе крайне политизировано — как в Европе, так и в Штатах. Понимаю, что что-то делать вне политики сегодня сложно, она проникла повсюду.
О литературном дебюте и «Ташкентском романе»
— Расскажите о вашем литературном дебюте и первом значительном произведении, которое привлекло внимание? Кажется, это был «Ташкентский роман»? Можно ли его считать бестселлером?
— Я не уверен, что какую-либо из моих книг можно назвать бестселлером. Современный бестселлер — это что-то вроде «К себе нежно»; мои же работы, скорее, про «К себе жёстко»… Но вы правы, «Ташкентский роман» действительно оказался в центре внимания. Он был отмечен «Русской премией», тогда её вручали первый раз. Сегодня я немного стесняюсь этой работы; для меня это ещё ученическое произведение, поиск собственного голоса, темы, стиля.
О журнальных публикациях и изменениях в читательской культуре
— Успех «Ташкентского романа» связан с его первоначальной публикацией в журнальном формате? Насколько часто вы публикуете отрывки из будущих книг в литературной периодике, и насколько эта, в общем-то, советская практика актуальна сегодня?
— Да, он выходил в журнале «Дружба народов». Примерно до конца 2010-х я обычно так и поступал: сначала публикация в журнале, затем уже отдельной книгой. Но мой последний роман, «Катехон», сразу вышел как отдельная книга. Причина, увы, в том, что традиция чтения романов в журналах угасает…
Короткую прозу в них ещё читают; вообще, короткая проза и остаётся преимущественно «толстожурнальным» жанром, книгоиздатели неохотно выпускают сборники рассказов или повестей. А вот крупная проза… Её, конечно, продолжают отдавать в журналы, и не только авторы старшего поколения. Например, два романа Нади Алексеевой, «Полуночница» и «Белград», прежде чем выйти в «Редакции Елены Шубиной», были опубликованы в «Новом мире». Но в целом, если лет двадцать назад роман, вышедший в толстом журнале, почти сразу рецензировался газетными и журнальными критиками (они внимательно следили за тем, что печатается в ведущих толстых журналах), то сегодня… увы.

О диаконском служении и православном журнале
— Я знаю, что помимо писательской деятельности вы служите диаконом и редактируете православный журнал. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?
— Да, наш журнал «Восток Свыше» выходит уже 25 лет при Ташкентской епархии (РПЦ). Он несколько отличается от обычных епархиальных изданий, которые мне доводилось видеть. Это фактически толстый литературный журнал, хотя, разумеется, с преобладанием христианской тематики. Таким его создал ташкентский прозаик Алексей Устименко, его первый редактор. Я стараюсь сохранить эту изначальную линию. Мы публикуем исторические и богословские исследования, эссеистику, переводы, прозу и поэзию. А что касается диаконского служения… Я обычный диакон.
Влияние языковой среды на творчество
— Узбекистан — это заграница только в современном понимании, но я помню пример Юрия Трифонова, который не уезжал из СССР, опасаясь оказаться «в стихии другого языка». Как окружение, иной — несомненно прекрасный, но иной — язык и контекст влияют на вашу поэзию и прозу?
— Конечно, они как-то влияют. Но самому мне это влияние сложно отслеживать; это задача литературоведов, если, конечно, им это интересно. Кроме того, Ташкент примерно до конца 90-х был преимущественно русскоязычным городом. Узбекский язык звучал, но знать его, в принципе, не было обязательным. Хорошо это или плохо — судить не берусь. Даже после того, как с начала 90-х стали (впрочем, не везде и не особенно активно) требовать знание узбекского при приёме на работу, переводить документацию, объявления… Это происходило тогда во всех постсоветских республиках. Но городская среда в Ташкенте оставалась преимущественно русскоязычной. Так что где-то до тридцати лет я не был «в стихии другого языка»; это была стихия русского, лишь подсвеченная присутствием узбекского. Последние лет двадцать пять ситуация, конечно, сильно изменилась. Сказывается мощный отток (ещё с конца 80-х) русскоязычного населения. Последние лет десять он, правда, почти прекратился — зато именно в эти годы усилился приток из областей. Естественно, это узбекоязычные люди; русский в большинстве своём они почти не знают. Опять же, это невозможно оценивать как «хорошо» или «плохо»; это естественный процесс. И здесь ты действительно всё больше оказываешься в стихии другого языка, хотя, работая в епархии, ощущаю это в меньшей степени… И всё же этот момент изменения языковой среды, конечно, где-то драматичен, но одновременно для писателя это интересно — это возможность другого взгляда, другого голоса. Узбекский — очень глубокий, безбрежный. Впрочем, как и любой другой язык, который для тебя и не совсем родной, но и не чужой, не иностранный.
О замысле романа «Катехон»
— Как рождался замысел романа «Катехон», с которым вы одержали победу в «Ясной Поляне»? Критики усмотрели в нём пласты богословской проблематики и некий предапокалиптический контекст, с буйством инквизиции и попыткой найти ответы на вечные вопросы.
— Замысел у меня обычно возникает с какой-то очень яркой внутренней картинки. Настолько яркой, что начинаешь её записывать… И сцена сожжения, и инквизиция возникли именно визуально. Была, впрочем, и художественная задача, а серьёзный роман, думаю, не может быть без задачи, без какой-то цели, которую ты сам ставишь и пытаешься, примериваясь, в неё попасть. Эта цель, конечно, возникает не сразу; вначале кажется, что целишься просто в какую-то тёмную, ветреную пустоту… Как тот третий сын из сказки, который пустил стрелу, и она улетела куда-то в лягушачье болото (тогда как два старших сына, похоже, знали, куда целились и кто у них «целевая группа»). Задача, которую постепенно для себя обозначил, — это попытка скрестить художественную литературу, фикшн, с нон-фикшном, причём достаточно сложным: философским, богословским.
О сложности книги и отношении к премиям
— Понимали ли вы, насколько сложной для восприятия будет книга, и рассчитывали ли получить за неё крупную премию?
— Нет, на премию я не рассчитывал. Мне кажется, это вообще не очень полезно — писать с прицелом на премию. Дело не в скромности; просто такие вещи обычно отвлекают. Представьте, если бы Толстой писал «Войну и мир» с прицелом на награду… Да он вообще начинал свою эпопею как роман о декабристах, но в процессе всё изменилось. Конечно, сегодня премия — это не то же самое, что во времена Толстого. Тогда в них по большому счёту не было надобности; авторские гонорары были достаточно высокими. И тем не менее лучше об этом в процессе написания не думать. Это всё равно что начинать ухаживать за девушкой, прикидывая величину приданого.
Что касается сложности книги… Мне она не кажется сложной. По стилю — так она даже где-то слишком проста. Да, она требует для чтения определённого интеллектуального и культурного багажа, но не больше, чем множество других романов, как современных, так и классических. В ней другая сложность… Это, как помню, мне, ещё подростку, говорили: «Достоевский так сложен!». А потом о фильмах Тарковского: «Они такие сложные, непонятные…». Стал читать Достоевского: что сложно? где сложность? То же самое позже с фильмами Тарковского: где она, пресловутая непонятность? Ощущение поразительной прозрачности, ясности и убедительности каждого кадра, каждой сцены. А сложность — реальная — в том, что такой кинематограф (и такая литература) не развлекает, не отвлекает человека от самого себя, а наоборот, возвращает его к себе. А это психологически очень тяжело. Очень тяжело остаться наедине с самим собой — не с тем, каким ты себя выдумал, а с реальным. Для большинства людей это мучительно. Поэтому они и пытаются отвлечь себя чем-то: делами, развлечениями, путешествиями, алкоголем — чем угодно. А Достоевский заставляет тебя вернуться к себе. «Преступление и наказание» — оно не про Раскольникова, оно про тебя. Это твоё преступление. «Вы и убили-с!» И твоё наказание. И «Бесы» про тебя. Про твоих, дорогой читатель, внутренних бесов. Поэтому это сложная литература. У Тарковского ещё очевидней: само название «Зеркало». Перед кем оно поставлено, кто вынужден в него — вместе с главным героем — медленно всматриваться?.. Конечно, я не сравниваю себя ни с Достоевским, ни с Тарковским; но традиция именно такой сложности в русской культуре мне очень близка.
О литературных предшественниках и будущем литературы
— Со Львом Николаевичем и Федором Михайловичем разобрались, назовите других титанов, на плечах которых стоите вы как писатель?
— Пушкин, Гоголь, Мандельштам (и как поэт, и как прозаик). Вообще русская проза 1920-х — начала 1930-х: Платонов, Вагинов, Булгаков, Олеша, Ильф с Петровым… Я могу называть много имён, как, наверное, любой писатель. Читательская история всегда где-то совпадает с писательской. Вначале мы чему-то подражаем, потом — от чего-то отталкиваемся, отходим; в конце — снова приходим, но уже не как подражатели, а как продолжатели.
Но в наши дни в принципе «стоять на плечах титанов» трудно. Всегда было сложно, потому что эти плечи — они же живые, они под тобой шевелятся. Классика — это же не то, что отлито в бронзе и высечено в мраморе; это то, что продолжает жить (пока жив читатель). Но сегодня это совершенно новая сложность — быть писателем, продолжать какие-то традиции… Под воздействием информационной революции всё колоссально меняется; сама природа чтения трансформируется прямо на глазах… А мы себя успокаиваем: будем писать, как писали пятьдесят-шестьдесят лет назад, и нас будут читать и любить, как читали и любили писателей пятьдесят-шестьдесят лет назад… Не будут. Нужно искать, нужно пробовать что-то новое — в стиле, в сюжетах… Тогда, возможно, и устоим.